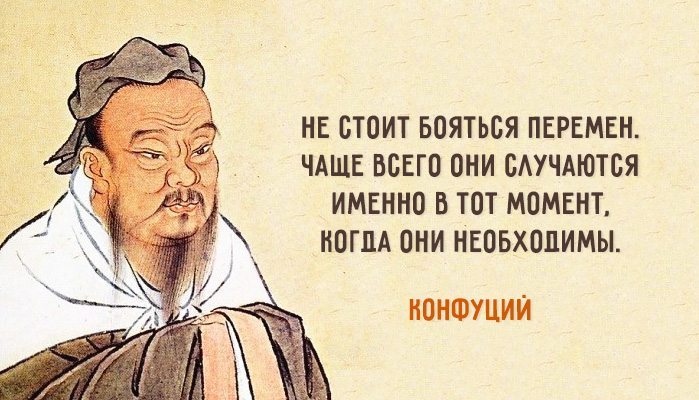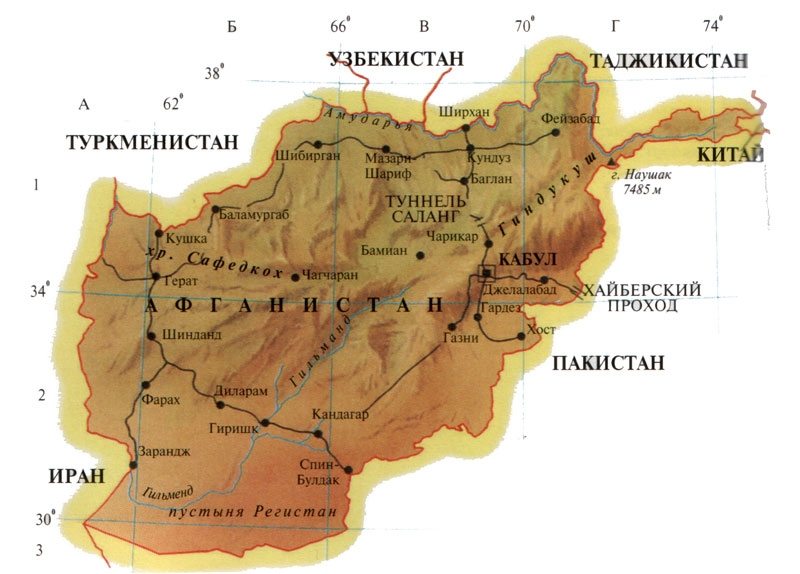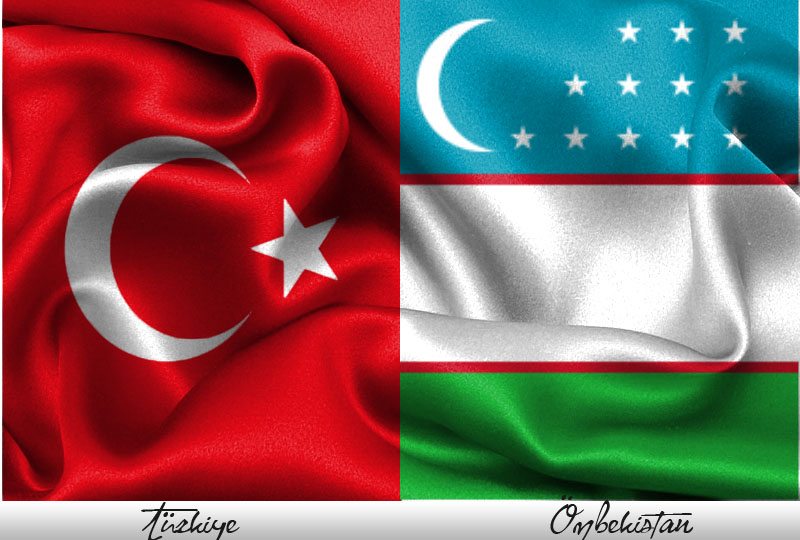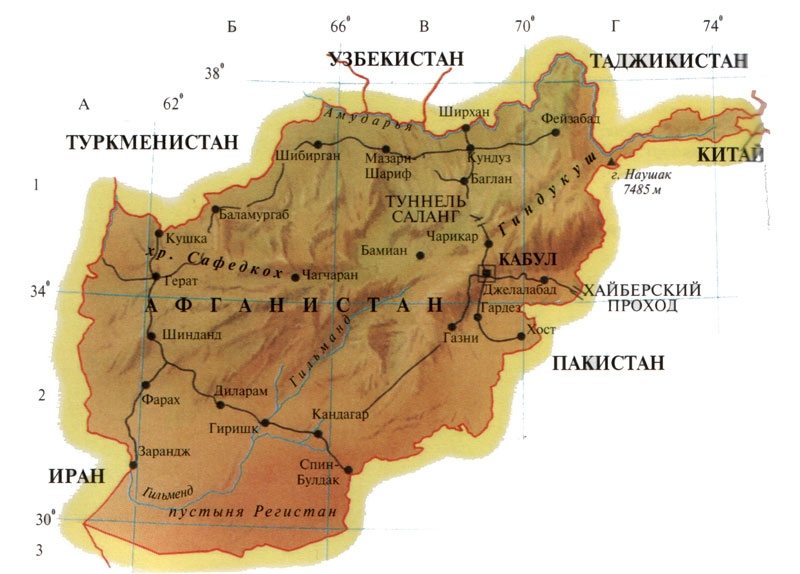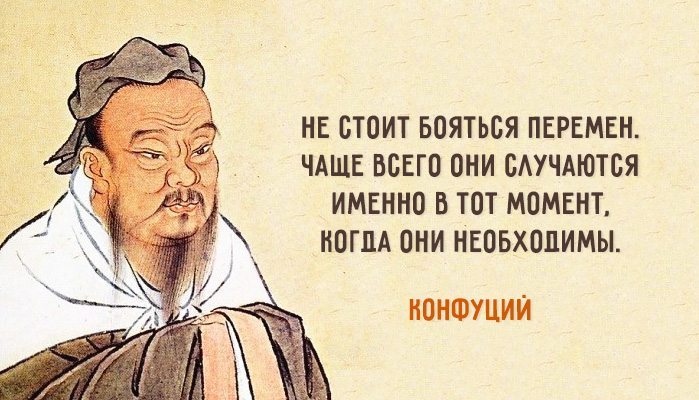 Константин Асмолов – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
Константин Асмолов – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
Резюме: Уникальность дальневосточного мобилизационного успеха основана на традиционном конфуцианском наследии, творческое применение которого позволило существенно повысить статус в рамках меняющегося миропорядка.
Современный мир не просто имеет достаточно четко выраженную пирамидальную структуру, но она еще и очень ригидная. Известно лишь несколько случаев, когда страна, принадлежавшая ко второму или третьему миру, перемещалась в первый, сумев провести форсированную модернизацию. По случайности или совпадению все такие страны находятся в конфуцианском культурном регионе. Наиболее явный пример – Республика Корея, которая в начале 1960-х гг. уступала в развитии Нигерии, а к началу нынешнего экономического кризиса претендовала на место в первой десятке наиболее развитых стран. Впечатляющие темпы экономического роста продемонстрировали Сингапур и Тайвань, а сейчас по этому пути движутся Вьетнам и Китайская Народная Республика.
Во всех перечисленных случаях модернизационный рывок происходил на фоне достаточно авторитарной «диктатуры развития» (в РК реальные правозащитные нормы стали возникать только во второй половине 1980-х гг.), а в качестве маскировочной идеологии использовались социалистические или демократические идеи, однако переработанные применительно к национальной или региональной специфике. Эта специфика связана с духовным наследием конфуцианства, синтез традиций которого с социальными инновациями ХХ века породил теорию или комплекс так называемых азиатских ценностей, которые в Евразии часто рассматриваются как альтернатива общечеловеческим. Именно следование им позволило азиатским странам осуществить модернизацию так эффективно.
Традиционная основа конфуцианских ценностей
Конечно, о конфуцианстве можно рассказывать много, и я заранее отсылаю интересующихся к работам таких специалистов, как Леонард Переломов и Александр Ломанов. Здесь лишь немного с системной точки зрения. Как и большинство этических учений Дальнего Востока, конфуцианство уделяло меньше внимания метафизике и концентрировалось на вопросах улучшения управления государством и жизнью народа. Ориентируясь на Золотой век прошлого, конфуцианцы пытались создать некий универсальный регламент поведения, привязанный к надлежащему исполнению определенных социальных ролей. Эти роли были сведены к пяти основным типам взаимоотношений квазисемейного характера (начальник – подчиненный, государь – подданные, отец – сын, муж – жена, старший брат – младший брат и просто друзья).
Отталкиваясь от подобных моделей, конфуцианцы пытались написать что-то вроде инструкции на все случаи жизни, дабы благородный муж знал способ разрешения любой коллизии. А чтобы такая модель могла воспроизводить себя, они приложили усилия к созданию системы образования, во многом построенной на заучивании определенных паттернов и элементов. К этому добавлялась концепция меритократии, согласно которой любой талантливый человек имел теоретическую возможность сдать экзамены и стать чиновником. В результате, говоря о конфуцианской политической культуре, можно выделить несколько ее характерных черт.
Представления об идеальном Порядке и Гармонии связаны не с горизонталью всеобщего равенства, а с вертикально организованной системой, выстроенной на каркасе указанных выше пяти моделей иерархических взаимоотношений. Таким образом, лозунг «Все люди – братья!» имеет иное наполнение, поскольку абстрактное понятие «брат» отсутствует: есть братья старшие и младшие. Полное равенство воспринималось как хаос и анархия, для недопущения которой следует идти на любые жертвы.
Канон иерархии накладывает обязанности на обе стороны. Конфуцианская категория «служение» предполагает взаимную заботу и налагает на начальника моральные обязательства по отношению к подчиненному. Младший обязан слушаться старшего, старший обязан заботиться о младшем. Государственное устройство тоже воспринимается через призму семьи. С моральной точки зрения отношения между властями и населением представляют собой взаимоотношения послушных детей и заботящихся об их благе родителей.
Основной ценностью государства считаются стабильность и гармония. Поддержание таковых является более важной целью, чем блага отдельного подданного, и обеспечивается сильной центральной властью. Статус правителя основывается на принципе Небесного мандата. Эта концепция, разработанная еще Мэн-цзы, утверждала, что право на управление Поднебесной тот или иной клан получает по воле Неба в награду за свою мудрость и моральные качества. Император подотчетен непосредственно Небу, которое выражает свое удовольствие или неудовольствие через природные явления или общее социальное положение народа. В отличие от европейской доктрины «божьего помазанника», легитимность правящего дома не вечна, и утративший мандат правитель должен быть низложен и заменен более достойным, но от легитимной и достойной своего места династии Небо не отворачивается по определению, и принципиальной оппозиции, деятельность которой направлена на изменение существующего миропорядка, у носителя Небесного мандата быть не может.
Конфуцианское общество в целом ориентируется на поиск консенсуса, и оппозиция в нем играет «системную» роль, критикуя недостатки, но не замахиваясь на полную перестройку системы. Теоретически она как бы играет роль критического взгляда со стороны, который помогает государству выявлять перегибы и недостатки и совершенствовать себя. Такой подход тоже формально помогает концентрироваться на решении общегосударственных задач.
Вынужденное существование в рамках группы формирует систему ценностей, основанную на превалировании общества над человеком и коллектива над индивидом. Конфуцианская политическая культура исключает такие либеральные элементы, как права личности, гражданские свободы, плюрализм и местную автономию и относится к ограничению индивидуальной свободы человека гораздо более спокойно, чем демократия западного толка. Европейское понятие «свобода», по сути, отсутствует. Если мы внимательно проанализируем иероглифы, из которых состоит слово, обычно переводимое как «свобода» (кор. чаю), мы поймем, что буквально они означают «вольность» или «самоопределение».
Однако не следует думать, что идеи, связанные с понятием «демократия» в массовом сознании, в китайской культуре отсутствуют вообще. Восприятие демократии, особенно такого ее компонента, как плюрализм, можно проанализировать через конфуцианские категории хэ, которую принято переводить как «гармония», и тун, которую принято переводить как «согласие». Однако более внимательный анализ, сделанный Переломовым, трактует хэ как единство через разномыслие, а тун – как единство через послушание. В политической культуре эпохи Конфуция тун символизировало покорное единение с силой, исходящей, как правило, от верховной власти, в то время как хэ означало достижение единства путем столкновения и взаимопреодоления полярных сил. Конфуций отдавал предпочтение хэ, сравнивая достигнутую таким образом гармонию с гармонией вкуса, полученного при приготовлении блюда, когда различные ингредиенты в сочетании создают нечто новое и удивительное, или с музыкой, состоящей из разных нот.
Одной из главных составляющих конфуцианской политической культуры является меритократия. Основанием для обретения власти на Дальнем Востоке было не аристократическое происхождение, а уровень духовных заслуг, проявляющийся в эрудиции и образованности. Личные качества важнее родовитости, и теоретически любой крестьянин мог сдать государственные экзамены и стать чиновником, которые и составляли основу господствующего класса. Отсюда повышенное внимание к образованию как средству самосовершенствования и способу подняться вверх, а также упор на создание человека нового типа через изменение не столько внешних условий, сколько его ментальности посредством политической индоктринации. Так как, в отличие от легистов, конфуцианство после долгих внутренних дискуссий признало, что человек по своей природе скорее добр, нежели зол, образование должно было служить способом наставления индивида в правильном направлении.
Правда, со временем содержание образовательного процесса начинает выхолащиваться, и вместо практического знания требовалось просто заучивать наизусть тексты и помнить образцы, которым надо следовать. Типичный конфуцианский ученый не осмеливался заняться творческим поиском, ограничиваясь интерпретацией, анализом и комментированием классиков.
С этим же связано большее внимание к контролю сознания. Если для европейца, и особенно американца, важно «право на мысль» (вспомним известное изречение Вольтера), то для китайцев – «правильное мышление», отражающее представления совокупного общественного блага, символом которого является «сборник высказываний», будь то труды Мэн-цзы или цитатник Вождя.
Важным моментом конфуцианской концепции государства является и то, что оно основано на идее главенства не закона, а достойных людей, которые управляют страной сообразно со своими высокими моральными принципами. Европейская концепция закона как сочетания прав и обязанностей отсутствует, и судебная функция государства воспринимается как система репрессивных действий. Это очень четко видно даже по этимологии: если латинское слово «юстиция» означает «справедливость» и предполагает, что закон предназначен для установления справедливости или защиты прав личности, то орган, выполнявший сходные с министерством юстиции функции в дальневосточной государственной системе, именовался «министерством наказаний».
Кстати о «справедливости». Отметим принципиальную разницу в содержании этого понятия в Европе и на Дальнем Востоке. В конфуцианской парадигме понятия «справедливость» отсутствует идея социального равенства и равных возможностей для всех, а этический аспект преобладает над социальным. То же самое касается понятий «долг», «совесть», «права», «обязанности» и т. п. Последнее представляется чрезвычайно важным, так как внедрение этих понятий в конфуцианскую парадигму без дополнительного разъяснения того, какой смысл в них вкладывается на Западе, может привести к тому, что эти понятия будут автоматически наполняться традиционным восточным содержанием.
При этом значительную роль во взаимоотношениях человека и системы играет моральная заинтересованность. Стремление к получению материальных благ любой ценой воспринимается с пренебрежением (в традиционной системе в табели о рангах торговец стоял ниже крестьянина), а наиболее престижная работа не всегда является самой высокооплачиваемой. Труд функционера системы оплачивается не столько в денежной форме, сколько в форме повышения статуса или привилегий.
Ясно, что, как и везде, между нормативной этикой и ее применением на практике был значительный разрыв, и добросовестное исполнение этических норм обычно не сочеталось с успешной карьерой. Но если на Западе коррупция не только уголовно наказуема, но и общественно порицаема (в теории), на Дальнем Востоке отношение к коррупции неоднозначное. С одной стороны, с ней всегда боролись, и пойманный на взятках чиновник подвергается общественной обструкции, с другой – традиция «дополнительного поощрения» очень сильна. Однако эта коррупция является не столько подмазыванием европейского типа, сколько прикармливанием чиновника с тем, чтобы связать его неформальными отношениями или моральными обязательствами так, чтобы в нужной ситуации он поступил «правильно».
Тем не менее этот раздел можно смело завершить словами южнокорейского политолога Ли Ин Сона: «Выражаясь кратко, народы, исповедующие конфуцианство, придают первоочередное значение семье, коллективизму, высшему образованию и нравственному самосовершенствованию человека… Пропагандируемый конфуцианством коллективизм в не меньшей мере способствовал тому, что население приоритетное внимание уделяло таким ценностям, как семья, работа, родина».
Основные различия между азиатскими и общечеловеческими ценностями
Указанные выше особенности конфуцианской модели сформировали определенный набор элементов, которые проявляются в том числе в культуре, бюрократической или управленческой. Для удобства восприятия сведем их в таблицу, где определенной характеристике условной «европейской» культуры будет соответствовать ее дальневосточный аналог.
— Общечеловеческие ценности
Индивидуализм. Индивидуализм означает, что интересы отдельной личности ставятся гораздо выше, чем интересы государства или общества, состоящего из таких личностей. Из приоритета индивидуализма вытекает поощрение личной ответственности и личной инициативы. Власть традиций и обычаев не становится преградой для новых идей и неординарных поступков.
— Азиатские ценности
Авторитарность. Интересы государства /начальства /властей выше интересов личности. Этот момент хорошо проявляется в армейском принципе единоначалия, который характеризуется большей жесткостью управления по сравнению с гражданским обществом и большим ограничением свободы подчиненных.
— Общечеловеческие ценности
Эгалитаризм, который построен на том, что при появлении на свет ни у кого нет неких врожденных или априорных преимуществ, и, следовательно, все имеют равные права и свободы, равные возможности «на старте» и т. п.
— Азиатские ценности
Иерархичность. Этот компонент очень часто не отделяют от авторитарности, с которой он действительно «идет рука об руку». Но если авторитарность рассматривается нами как мера жесткости управления, то под иерархичностью мы подразумеваем преобладание вертикальных связей над горизонтальными.
— Общечеловеческие ценности
Рационализм/прагматизм – аналитическое и логическое мышление, основанное на фактах, релятивистское отношение к ценностям, подход, основанный на том, что они меняются, и абсолютизировать их нельзя. Определенная «секуляризация мысли» и «отделение дружбы от работы».
— Азиатские ценности
Корпоративность и персонализм. Стремление не столько к объединению в единое целое, сколько к обособлению небольшой группы от остального общества и разделению по формуле «свои – чужие»; предпочтение формальным отношениям неформальных, квазисемейных, окрашенных личными симпатиями или привязанностями.
— Общечеловеческие ценности
Легализм как идея главенства закона. Закон воспринимается как безличная категория, стоящая над государственной системой и единая для всех вне зависимости от статуса. Опора на закон – рекомендуемый способ решения проблем, включая те, которые в рамках традиционной модели общества принято решать, не прибегая к помощи со стороны.
— Азиатские ценности
Ритуализация как приверженность традиции и стремление делать все в соответствии с ней, придавая повышенное значение внешней форме. Это явление можно было бы назвать формализмом, но термин «формализм» охватывает лишь часть его аспектов.
— Общечеловеческие ценности
Материализм. Ориентация не на духовную сферу, а на материальные ценности. Критерием успешности и признаком высокого социального статуса являются не духовные заслуги в сочетании с благородной бедностью, а экономическое процветание, выраженное в накоплении богатств.
— Азиатские ценности
Нематериализм как тенденция придавать меньшее значение материальным благам, стремление предпочитать социальный престиж материальным ценностям, а моральные стимулы – материальным.
— Общечеловеческие ценности
Мотив достижения. Это понятие как бы вбирает в себя одновременно и активную жизненную позицию, противостоящую фатализму, и слепое следование воле судьбы или обстоятельств, и концентрацию на достижении цели, нередко – любыми средствами.
— Азиатские ценности
Безучастность или то, что политологи именуют парохиальным типом политической культуры, проявляющимся в определенной пассивности масс и тенденции игнорировать риск, полагаясь больше на фортуну и «авось», чем на активное планирование будущего.
Из таблицы видно, что основной набор ценностей конфуцианской и общечеловеческой/западной систем весьма различается. Понятно, что во всех случаях мы говорим об идеальной модели, и среди представителей Европы и Азии наверняка есть люди, не следующие этому стандарту. Тем не менее любопытно, что западную систему ценностей критиковали даже те представители азиатских ценностей, которые больше других говорили о необходимости глобализации. Так, Ким Ен Сам пишет о том, что демократизация вызвала «фонтанообразный «выброс» экономических нужд и требований и взрыв группового эгоизма», а чрезмерный акцент на достижение индивидуальных устремлений в ущерб общественным должен быть ликвидирован.
Азиатские ценности с дальневосточной точки зрения
В каждой стране концепция азиатских ценностей своя, но ядро обычно связано с «поддержанием сильного государства и стабильного лидерства; отказом от полноценного общественно-политического плюрализма; уважением традиционных устоев, направленных на поддержание консенсуса и социальной гармонии в противовес разногласиям и конфронтации; обеспечением условий для активного вмешательства государства в экономику и общественные процессы; приоритетом коллективных прав над правами индивидуальными; первостепенным положением национального благосостояния, а не гражданских прав и свобод» (Толстокулаков И.А. Политическая модернизация Южной Кореи).
Так, по мнению южнокорейского политолога Юн Мин Бона, наиболее значимыми «азиатскими ценностями являются: корпоративный подход к любым проблемам и консенсус при выработке практических решений; традиционно почтительное отношение к власти; усилия по поддержанию гармонии и порядка в обществе; чрезвычайно важная роль семьи и других социальных сообществ; самодисциплина и отказ от собственных желаний во имя коллектива; исключительно важная роль образования; терпимость, бережливость, уважение к старшим».
Азиатские ценности оспаривают современную западную модель управления в экономической и политической сферах: приоритетное положение занимает традиционная политическая культура, направленная на поддержание корпоративизма и иерархических принципов организации общества, затем следуют культурные ценности, освящающие этику и общественную жизнь, а концепции гражданских прав и обязанностей придается второстепенное значение. Азиатский капитализм и азиатский рынок строятся на родственных и клановых связях и в меньшей степени зависят от юридических норм и судебной системы.
Нередко азиатские ценности связывают со средневековым «азиатским способом производства»: главной земледельческой культурой был рис, а его выращивание невозможно без создания оросительных систем, каналов, водохранилищ, постройка и поддержание которых требуют согласованных усилий сотен и даже тысяч человек. Поливное рисоводство как основной хозяйственно-культурный тип во многом сформировало ситуацию, при которой основным собственником земли было государство. Процесс расползания земли в частные руки, ведущий к феодальной раздробленности, всегда находился под б?льшим контролем, чем в Европе, а необходимость поддерживать ирригационную систему вела к тому, что урожайность зависела не только от погоды, но и от деятельности правителя. Труд в таких условиях формировал в дальневосточных крестьянах те качества, которые сделали их идеальными работниками в современной капиталистической экономике.
Установление связей между особой этикой и успешной социально-экономической модернизацией стоит отметить особо. Конфуцианская культурная традиция воспринимается как «особый стартовый капитал». Юн Мин Бон подчеркивает, что азиатские ценности обеспечили не только экономический рост, но и духовное здоровье нации, которое благодаря высокой социальной ответственности и дисциплине оберегается от анархии и эгоизма. События последних лет дают основания говорить о моральной деградации европейской цивилизации, одержимой проблемой индивидуальных прав и свобод, в то время как сохранение социальной и политической стабильности в Азии увязывается с культивируемым здесь приоритетным чувством долга.
Тут, кстати, будет уместно вспомнить, что человек по своему складу существо общественное и с точки зрения ряда зоологов именно свойственные человеку определенный альтруизм и коллективизм позволили ему выделиться из животного мира. Понятно, что один индивидуалист в коллективе альтруистов обеспечивает себе привилегированное положение, однако когда процент индивидуалистов становится слишком высоким и они начинают доминировать, структура распадается, так как ее способности к коллективному ответу на внешний вызов падают.
Вообще же идея азиатских ценностей появилась как ответ на попытку Запада навязать миру культурную гегемонию, представив свои ценности как универсальную догму. Поэтому сторонники азиатских ценностей как минимум желают доказать различие путей развития Запада и Востока, как максимум – показать превосходство Азии над Западом и создать свой центр притяжения, противоположный европоцентризму. Не случайно практически все варианты восточной «региональной специфики» говорили о неприемлемости механического копирования западных моделей.
В рамках классической конфуцианской системы достаточно факторов, работающих на торможение модернизации. Конфуцианство хорошо обеспечивает преемственность ценностей и сохранение традиций в течение долгого времени, но оперативное реагирование на быстро меняющуюся обстановку – не его конек. Именно такие аспекты конфуцианства обусловили тот тип стагнации, который постиг страны Дальнего Востока после их «насильственного открытия» европейскими державами. Перегиб в сторону излишнего коллективизма приводит к обезличиванию и убивает креативность, однако не случайно азиатские ценности воспринимаются как синтез старого и нового, позволяющий системе эффективно обновляться в рамках меняющегося миропорядка, где темп изменений значительно выше, чем раньше.
Поэтому речь идет не о механическом копировании традиций, а о синтезе и формировании той самой азиатской специфики, суть которой хорошо укладывается в корейский лозунг «Тондо соги» («Восточный путь, западная техника»), а также месте азиатских ценностей в политическом контексте. В этом смысле полезно проанализировать отношение к конфуцианскому наследию ряда азиатских лидеров, в первую очередь Пак Чжон Хи, его опыт модернизации автор полагает наиболее ярким.
Несмотря на традиционное воспитание, Пак Чжон Хи не был убежденным поклонником конфуцианства и не пропагандировал это учение в качестве главной причины экономического прогресса Кореи, как это делал, например, президент Сингапура Ли Куан Ю. К конфуцианским правилам и церемониям Пак относился довольно пренебрежительно, а в его работах, особенно первых лет, можно встретить критику конфуцианского догматизма как одной из причин отсталости. К отжившим элементам Пак относил те особенности менталитета и устройства корейского общества, которые объективно затрудняют модернизацию, – кастовость, бюрократизм, стремление к подражанию и низкопоклонство, слепое подчинение вышестоящим, привычка полагаться во всем на других, а не на себя.
Однако «сохранение традиций и проведение модернизации общества не должны противоречить друг другу – это части одного непрерывного процесса». И потому Пак говорит и о важности коллективизма, и о внимании к таким важнейшим для конфуцианства добродетелям, как преданность государству (чхун) и сыновняя почтительность (хе), которые, по его мнению, прекрасно вписываются в современные стандарты этики.
В конце ХХ века место конфуцианства и его соотношение с корейским национальным характером стали темой широких дискуссий. Впрочем, критике подвергалось не конфуцианство как таковое, а некие морально устаревшие элементы общества, тормозящие его развитие по пути демократии и глобализации. Так, Ян Гын, профессор политологии Университета Ханъян, считает, что, хотя государственная система РК сейчас построена на следовании европейской традиции, мысли и действия субъектов этой системы демонстрируют приверженность традиционной политической культуре, основанной на дискриминации, связанной с регионализмом, образованием и личными связями, и они сковывают движение общества вперед. Несколько иное мнение о конфуцианских добродетелях, высказанное известным адвокатом и журналистом Чун Сон Чхолем, заключается в том, что эта система ценностей традиционно ставит верность системе выше рациональности, а интересы группы выше интересов отдельной личности. Помощь человека человеку воспринимается как естественный долг, даже если это выглядит (или является) нелегальным актом или проявлением коррупции. Новая эра ставит на первое место индивидуализм и независимость личности от системы, абстрактные интересы страны доминируют над интересами узкого круга (семьи), а понятие честности отличается от традиционного понятия искренности.
Азиатские ценности как объяснение прорыва
Способности авторитарной системы осуществлять более эффективное руководство силами и ресурсами государства, а также «удешевлять» человеческий фактор за счет ограничения прав и регулирования уровня жизни в целом известны. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, такие особенности авторитарной системы, как высокое быстродействие, дисциплина или умение быстро перебрасывать силы и ресурсы, хорошо подходят для управления в кризисной ситуации. Во-вторых, определенный уровень принуждения позволяет управлять ситуацией, вызванной противоборством двух тенденций. С одной стороны, тяжелое положение страны, как правило, требует жестких мер по выходу из кризиса, в ходе исполнения которых граждане будут вынуждены жертвовать частью своего личного благосостояния ради блага страны. С другой, концепция гражданских прав и приоритета интересов личности над интересами государства препятствует этому.
Как отмечает Сэмюэль Хантингтон, модернизация отсталой страны – противоречивый процесс. Там, где он завершен, общество обретает относительную стабильность и благополучие, однако начальные стадии характеризуются ростом кризисных явлений и конфликтов. К тому же народ по большей части консервативен и не хочет перемен – его в общем устраивает сытое спокойствие без необходимости отдавать что-то на нужды страны. Авторитаризм и нематериализм позволяют преодолеть эту тенденцию.
Однако в рамках европейской культуры с развитыми институтами гражданского общества такая политика вызывает или явное сопротивление, или определенную апатию, которая также не позволяет осуществлять прорыв.
Но в конфуцианском обществе благодаря описанным выше традициям оснований для такой реакции народа на действия государства значительно меньше, и он гораздо лучше «поддается мотивированию», притом что в бедной стране моральное стимулирование является более дешевой и более распространенной социальной технологией, это очень важно, потому что форсированный прорыв возможен, когда основные массы воспринимают процветание государства как часть личной судьбы, готовы отказывать себе или ограничивать себя ради лучшего будущего: «три года упорного труда, потом – десять тысяч лет счастья».
Проблема рецессии и торможения экономического развития возникает в азиатских странах, когда происходит смена поколений, и новые поколения в значительно большей степени подвержены «культуре глобализации». Этот процесс наиболее четко виден в Республике Корея, где из-за демографических и социальных диспропорций страна начинает переходить на все более активное использование труда мигрантов, так как ее собственный «человеческий фактор» значительно «подорожал».
Чем более явны перемены к лучшему, тем больше общество готово воспринимать объективные минусы авторитарного режима как приемлемую цену за благополучие. Однако новое поколение, не знавшее прошлого, из которого вырвалась страна, как минимум в меньшей степени готово воспринимать старые ограничения как должные. Как хорошо сказал один из философов РК, старое поколение довольствуется рисом и помнит времена, когда он был лакомством, молодые этого не помнят и беспокоятся об экологической чистоте риса. Иными словами, как только темп экономического роста замедляется, негативные стороны авторитарного режима начинают мозолить глаза и уже не кажутся адекватной платой за экономический рост.
Азиатские ценности позволяют как минимум существенно продлить период, когда основная масса населения лояльна государству и готова вкалывать на его благо в течение срока, достаточного для того, чтобы осуществить модернизационный прорыв. С другой стороны, конфуцианская модель как минимум декларирует социальную ответственность власти, которая обязана заботиться о народе в рамках ее квазисемейной модели взаимоотношений.
С третьей стороны, пора задуматься, в какой мере основа для азиатских ценностей сохраняется в современном обществе. Часть корейских экспертов в разговоре с автором уже задавалась вопросом, насколько «поколение единственных детей», выросшее в обстановке избыточного внимания и излишней заботы и во многом оторвавшееся от традиционной конфуцианской/коллективистской культуры, сможет пойти на тот же уровень самопожертвования, если страна вновь столкнется с аналогом кризиса 1997 года.
Азиатские ценности как объект критики
Данный вопрос – тема политически ангажированной дискуссии, так как является аргументом не в пользу распространенного среди либералов и демократов тезиса о том, что авторитарный режим по определению плох. Популярная в последнее время точка зрения вообще отказывает этому варианту построения общества в праве на существование. Однако азиатский опыт дает важный пример соотношения демократии и модернизации: мы не можем уйти от признания того, что стремительный прорыв из бедности и развала к стабильности и процветанию был невозможен без «мобилизации нации» и связанного с ней усиления роли государства, неизбежно сопровождающегося ограничением свобод отдельных граждан.
Критики азиатских ценностей приводят в пример страны Восточной Европы, которые смогли преодолеть кризис в экономике и без закручивания гаек, однако следует отметить, что а) бывшие члены СЭВ не переживали такую разруху, как Корея 1960-х гг.; б) темпы их экономического роста несравненно ниже достигнутых Кореей. Не является позитивным примером и Аргентина, где комплекс либеральных преобразований после иллюзии роста привел к весьма плачевным экономическим последствиям. В пользу точки зрения автора говорит и то, что, став президентом РК и выводя страну из последствий кризиса 1997 г., Ким Дэ Чжун был вынужден закрутить гайки и принять ряд мер, которые, будь он лидером оппозиции, он, скорее всего, критиковал бы.
Как подчеркивает Андрей Ланьков, попытки построить в Восточной Азии общество, сочетающее либеральную демократию и рыночную экономику, оставались безуспешными до конца 1980-х гг. (исключение – Япония, но к конфуцианскому культурному региону она относится отчасти). Опасность в другом – «есть гражданские методы управления во время мира и военные во время войны», и их не стоит смешивать. Когда чрезвычайная ситуация заканчивается, необходимо постепенно перейти к более мягкой модели управления. Задержка этого процесса чревата перерождением в диктатуру, а сохранение авторитаризма вне чрезвычайной ситуации может принести не меньше проблем, чем проявление либерализма во время войны или острого социального кризиса. Не случайно большая часть трудностей авторитарных систем начинается, когда на фоне улучшения экономического положения у масс возникает несколько иное представление о своем месте и своих правах. Попытка давить нарождающийся протест оказывается неконструктивной и, как подтвердил корейский опыт, ведет к социальному взрыву.
Другой ангажированный аспект дискуссии об азиатских ценностях заключается в том, что они как бы оказываются альтернативой так называемым общечеловеческим, которые западный мир пытается распространить на всю планету. Но в связи с этим хочется процитировать высказывание известного итальянского политолога Джозефа Лапаломбары: «Проблема политологии… состоит в том, что разработанные и апробированные на опыте одной страны научные парадигмы могут оказаться неподходящими для объяснения феноменов в других странах». О подобном же говорит и южнокорейский автор Ли Чжун Хан: «Методологическая ошибка западных исследователей состоит в их непоколебимой уверенности в том, что азиатские народы повторяют европейские сценарии и следуют в русле европейского модернизационного развития».
Поскольку новые азиатские ценности отчасти являются синтетической системой, одно из направлений их критики заключается в том, что на первое место ею ставится именно западные заимствования. Здесь, однако, возникает вопрос: «Почему в таком случае страны Восточной Европы или, скажем, Латинской Америки не оказались способны на прорыв?». Есть несколько стран, которые довольно сильно накачивались западной помощью, однако если сравнить любимое либеральными экономиками пиночетовское Чили с Республикой Корея времен Пак Чжон Хи, на фоне успехов Пака итоги правления Пиночета будут более чем скромными, а крови было пролито больше.
Другая критическая точка зрения на модернизацию стран Азии говорит о том, что Республика Корея и остальные страны конфуцианского культурного региона модернизировались потому, что им позволили это сделать. И Республику Корея, и Тайвань, и Сингапур создавали как бы в противовес странам соцлагеря, делая из них азиатскую витрину демократии. Кроме того, благоприятная политическая конъюнктура совпала с периодом, когда США и странам Запада нужно было выводить производство за рубеж с целью его удешевления. У первого мира возникли возможность и необходимость вывести ряд низко- и среднетехнологичных производств в третьи страны, а страны Восточной Азии лишь воспользовались этим историческим моментом. Правда, это не до конца объясняет успех Вьетнама и Китая, которые начали процесс модернизации уже после окончания холодной войны.
К критикам относился и экс-президент РК Ким Дэ Чжун, который, в частности, писал о том, что «теория особых азиатских ценностей есть не что иное, как миф, выдвинутый противниками процесса модернизации азиатских стран». Более того, Ким Дэ Чжун неоднократно проводил в своих речах идеи о том, что азиатский финансовый кризис во многом был следствием именно традиционной системы. Впрочем, стоит сделать важную «пометку на полях». Ким Дэ Чжун часто воспринимается как противник концепции азиатских ценностей, которые он называл мифом, выдвинутым противниками модернизации стран Азии, но проведенный Марией Рязановой анализ его публицистики позволяет увидеть, что Ким Дэ Чжун протестовал не против азиатских ценностей, а против их тенденциозного противопоставления ценностям общечеловеческим. Более того, с его точки зрения, все те черты, которые приписываются конфуцианству (склонность почитать правителей и презирать простой народ, стремление к жесткой иерархичности и т. п.), на самом деле ему не свойственны. В этом контексте он, например, сравнивает философию Джона Локка о естественных правах людей и подотчетности власти закону с Небесным мандатом и концепциями Мэн-цзы, которые он высказывал за два тысячелетия до Локка.
Все это, по его мнению, указывает на то, что демократия естественно присуща восточной цивилизации вообще и Корее в частности, отчего делить ее на «западную» и «азиатскую» нет смысла. Таким образом, Ким Дэ Чжун не проповедовал универсальность западной демократии, а полагал, что так как Азия обладает богатым наследием демократически ориентированных учений (куда он относил не только конфуцианство или тонхак, но и буддизм), она имеет все шансы превзойти Запад в развитии демократии.
Итоги
Уникальность дальневосточного мобилизационного прорыва в значительной степени (остальные факторы тоже важны, но являются скорее дополняющими) основана на традиционном конфуцианском наследии, творческое применение которого позволило этим странам существенно повысить статус в рамках меняющегося миропорядка. По мнению Переломова, конфуцианство остается стратегическим курсом КНР.
Этот момент чрезвычайно важен не только в дискуссии о том, существуют ли общечеловеческие ценности, но также при анализе будущего миропорядка, многополярность которого может быть дополнительно подкреплена пониманием различности ценностных систем, связанных с наследием той или иной цивилизации.
Константин Асмолов
7 апреля 2017
 В среду российский президент Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в своей летней резиденции в Сочи. В ходе встречи оба лидера говорили о двусторонних отношениях, а также о сирийском кризисе. Но Турция — «противоречивый партнер для России», пишет австрийская газета Der Standard.
В среду российский президент Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в своей летней резиденции в Сочи. В ходе встречи оба лидера говорили о двусторонних отношениях, а также о сирийском кризисе. Но Турция — «противоречивый партнер для России», пишет австрийская газета Der Standard.







 Доктор исторических наук, заведующий отделом «Азербайджано-Российские отношения» Севиндж Алиева также заметила необходимость использования фактов участия азербайджанцев во Второй мировой Войне в вопросе воспитания современной молодежи.
Доктор исторических наук, заведующий отделом «Азербайджано-Российские отношения» Севиндж Алиева также заметила необходимость использования фактов участия азербайджанцев во Второй мировой Войне в вопросе воспитания современной молодежи.